Главная тема
Либеральность. Вне конкуренции
Вы будете смеяться, но проблемой ценообразования в России, и не только ценообразования, является почти тотальный монополизм. Редкие исключения являются лучшим доказательством правила. Помнится, Михаил Юрьев приводил в пример отечественное пивоварение: если взять пиво премиум-класса — там все оборудование импортное, сырье импортное, затраты живого труда ничтожные, отечественная только вода, к сожалению. При этом цены на продукт были значительно ниже, чем, например, в Германии (во всяком случае, до того, как в отрасли Онищенко порылся). Потому что количество крупных конкурирующих производителей оказалось гораздо больше, чем в Германии.
Основной задачей отечественных либералов в процессе рыночной трансформации России должна была бы быть организация жесточайшей совершенной внутренней конкуренции. Там, где ее можно было бы организовать, и в тех отраслях, которые они намеревались сохранить в России. Однако поскольку они никаких отраслей в России сохранять не собирались — это было бы не полностью либерально, — они ограничились организацией конкуренции внешней, широко открыв беззащитную постсоветскую экономику.
Теоретически это должно было эту самую постсоветскую промышленность уничтожить, расчистив поляну для благодатных иностранных инвестиций, которые должны были ринуться в страну победившего либерализма. Однако подлое народное хозяйство, как и всякий укоренившийся уклад, при отсутствии ковровых бомбардировок не подыхает одномоментно. Оно склонно к инерции и проявляет нездоровую волю к жизни. Так называемое затратное ценообразование и связанный с ним монополизм становится одним из способов выживания отечественного производства. Тот же монополизм, с присущими ему административными барьерами, становится способом сопротивления «убойным» иностранным инвестициям, когда в разрушенной и обесцененной экономике проще купить конкурента для того, чтобы его уничтожить, чем тратиться на конкурентную борьбу.
Напомним специфический способ борьбы либеральных реформаторов с монополиями. Это расщепление предприятий, составлявших не просто единый производственный комплекс, а зачастую простую технологическую цепочку по звеньям. В результате количество субъектов собственности дико увеличилось. Производство разрушалось, но никакой конкуренции почему-то не возникало. Особая статья — это попытки аналогичным образом расчленить по кусочкам объекты естественных монополий, например, железнодорожную сеть или газотранспортную систему «Газпрома» (что в случае успеха должно было бы увеличить количество локальных монополистов на порядки).
Следующий уровень формирования постсоветского монополизма — это олигархическая приватизация наиболее ликвидных кусков советской собственности. Здесь к особенностям традиционной советской экономической структуры инстинкта выживания отечественных производителей добавился паразитизм новых владельцев советского наследства, распространившийся во все отрасли экономики. Даже в те, что к монополизму не склонны по природе, например, в розничную торговлю.
Наши авторы относят к факторам повышения цен последнего времени курсовую политику, точнее, антикризисную девальвацию рубля. На самом деле понижение курса национальной валюты — это не просто поддержка экспортеров в пику импортерам. Это в первую очередь стимулирование импортозамещения. Мы, кстати, имеем опыт чрезвычайно мощного эффекта девальвации после дефолта 1998 года. Ответ на то, почему тогда импортозамещение получилось, а через десять лет — нет, очевиден. Во-первых, теперь у потенциальных импортозаместителей нет ни оборотных средств, ни их источников. В стране умер кредит. Во-вторых, плавная девальвация сделала операции по конвертации рублей в валюту настолько более привлекательными, чем любая другая не то что производственная, а какая бы то ни было хозяйственная деятельность (включая торговлю наркотиками), что ничем другим заниматься было просто невозможно. И весь платежеспособный спрос был поглощен спросом на иностранную валюту.
Вообще курсовая политика, а конкретно сдерживание роста национальной валюты, является самым простым, примитивным и, вероятно, естественно эффективным способом промышленного протекционизма в высококоррумпированной стране. Однако при этом необходимо учитывать некоторые внешние условия. Есть такая «модель Манделла–Флеминга» для обменных курсов, абсолютно монетаристская, сформулированная виднейшими в свое время аналитиками МВФ. Модель действительно для малых открытых экономик, то есть тех, которые не способны сами влиять на мировые финансовые рынки и на уровень мировых процентных ставок. По этому признаку современная Россия относится именно к малым экономикам. Эта модель устанавливает связь между суверенной государственностью, ценовой стабильностью и открытостью экономики, то есть свободным движением товаров и капиталов. Модель очень логично указывает на то, что «два и только два критерия могут выполняться одновременно» (Роберт Манделл). Государственная независимость и стабильность цен и курса диктуют отказ от открытости. Государственность и открытость — отказ от ценовой стабильности. Стабильность и открытость — отказ от суверенной государственности. Такая простенькая загадка.
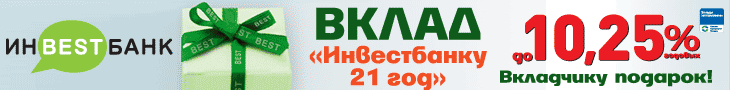



Комментарии
Я абсолютно согласен с Михаилом.
Да уж.... не простая ситуация (в общем как всегда)... Но было бы куда страшнее и сомнительней, если бы вся "РУсская ситуация" выглядела бы просторазрешимой и оптимистичной... Когда ситуация у нас с приставками "просто" и "оптимистично" это ничем хорошим обычно не заканичается...